Не Гете единым
Чем Фауст Кристофера Марло отличается от Фауста Гете? И в каком переводе лучше читать трагедию?
Об авторе
Кристофер Марло (1564 — 1593) — английский драматург конца XVI века. Он родился в небогатой семье сапожника, учился в грамматической школе и получил возможность обучаться в Кембриджском университете, после которого он должен был посвятить себя духовной карьере. Прослыл радикально мыслящим представителем английского гуманизма.
Марло внес значительные изменения в английскую драму, придав ей внутреннюю стройность и психологическое единство. Главные герои произведений Марло — честолюбивые борцы с неиссякаемой жизненной энергией, выплескивающие свою душу в полные патетики монологи, которые драматург ввел в арсенал приемов елизаветинской драмы. Поэт видел подлинные истоки трагического не во внешних обстоятельствах, определяющих судьбу персонажей, а во внутренних душевных противоречиях, разрывающих исполинскую личность, поднявшуюся над обыденностью и расхожими нормами.
Марло внес значительные изменения в английскую драму, придав ей внутреннюю стройность и психологическое единство. Главные герои произведений Марло — честолюбивые борцы с неиссякаемой жизненной энергией, выплескивающие свою душу в полные патетики монологи, которые драматург ввел в арсенал приемов елизаветинской драмы. Поэт видел подлинные истоки трагического не во внешних обстоятельствах, определяющих судьбу персонажей, а во внутренних душевных противоречиях, разрывающих исполинскую личность, поднявшуюся над обыденностью и расхожими нормами.
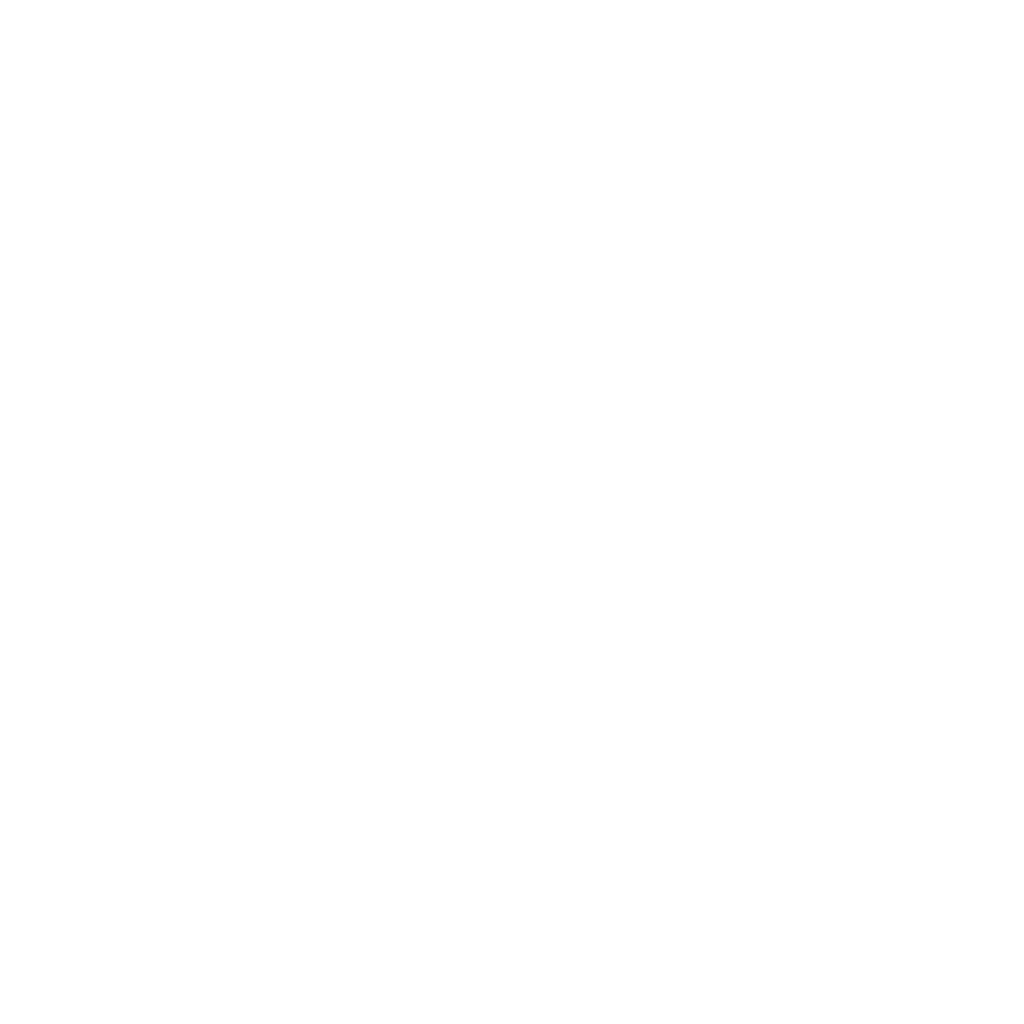
О прототипе
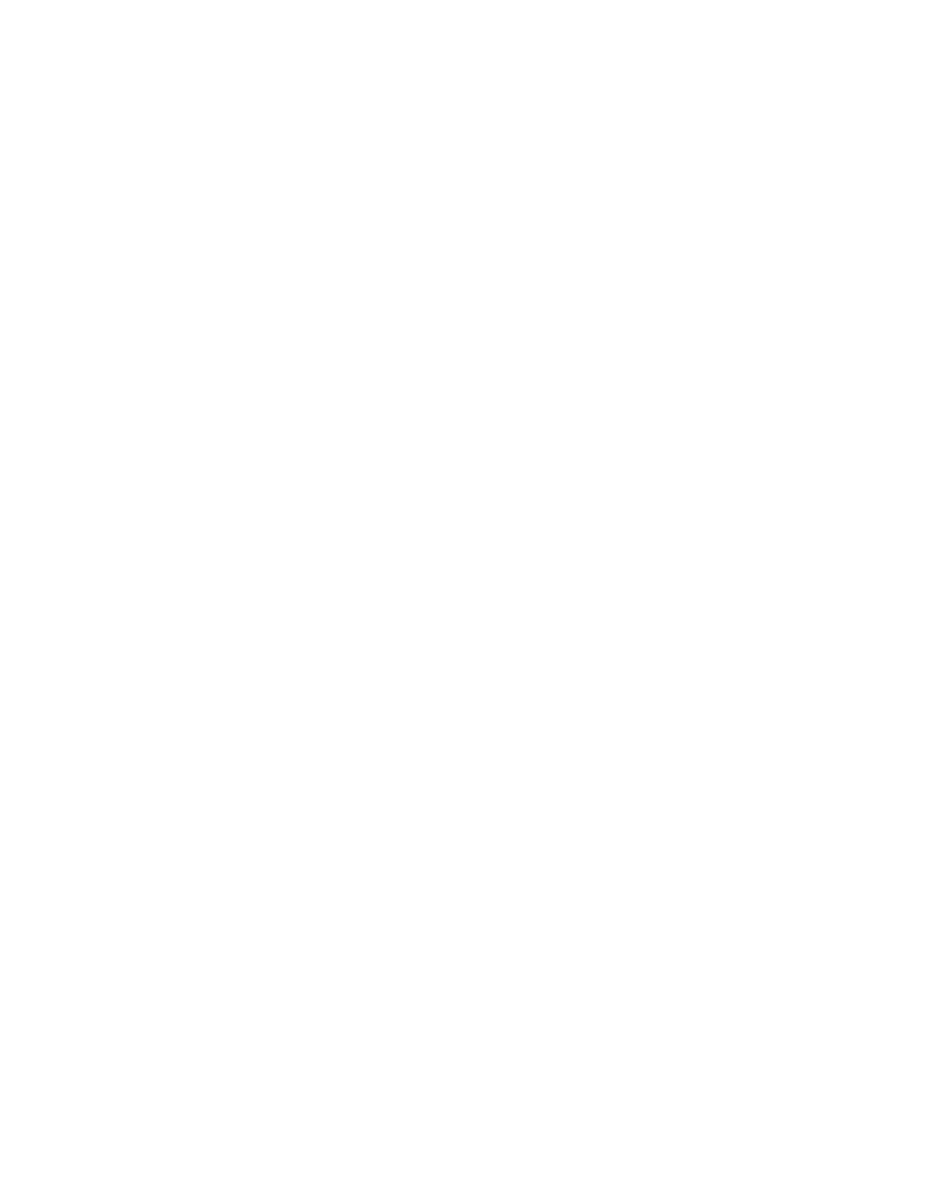
Иоганн Фауст — чернокнижник, живший в первой половине XVI в. в Германии. Его легендарная биография сложилась уже в эпоху Реформации. Данные о жизни исторического Фауста крайне скудны. Известно, что качестве чернокнижника и астролога он разъезжал по Европе, выдавая себя за великого ученого, и похвалялся, что может сотворить все чудеса Иисуса Христа или же «воссоздать из глубин своего познания все произведения Платона и Аристотеля, если бы они когда-нибудь погибли для человечества»
В 1587 году в Германии появляется первая литературная обработка легенды о Фаусте, так называемая «народная книга», полное название которой — «История о докторе Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике». В книгу вплетены эпизоды, приуроченные в свое время к различным чародеям. Именно этой книгой и вдохновлялся Марло.
А и Б сидели на трубе
Существует два основных издания трагедии Марло, которые принято обозначать как «текст А» и «текст Б»
Текст А
представлен изданием 1604 года и повторяющими его двумя последующими изданиями. Относительно чист от более грубых наслоений, характерных для позднейших редакций, поэтому современная критика вынуждена принять его как единственно заслуживающий внимания текст трагедии.
представлен изданием 1604 года и повторяющими его двумя последующими изданиями. Относительно чист от более грубых наслоений, характерных для позднейших редакций, поэтому современная критика вынуждена принять его как единственно заслуживающий внимания текст трагедии.
Текст Б
впервые появляется в издании 1616 года и повторяется с незначительными вариациями и разночтениями до 1631 года, а в 1663 году подвергается новой существенной переработке. С этого времени начинаются переделки «Фауста» в развлекательные фарсы с пиротехническими эффектами и фокусами, почти полностью вытеснившими трагические сцены.
впервые появляется в издании 1616 года и повторяется с незначительными вариациями и разночтениями до 1631 года, а в 1663 году подвергается новой существенной переработке. С этого времени начинаются переделки «Фауста» в развлекательные фарсы с пиротехническими эффектами и фокусами, почти полностью вытеснившими трагические сцены.
Трагедия гуманиста
Во вступительном монологе Хора к пьесе противопоставлены два понятия: «золотые дары учености» и «проклятое чернокнижие». А.Т. Парфенов подчеркивает, что Фауст верит не в безграничную силу знания, а в иррациональную, магическую силу заклинаний, содержащихся в «некромантических» книгах. По мнению В. М. Жирмунского, Фауст Марло идеализирован и полностью отражает идеи эпохи Возрождения: «эмансипации человеческого разума от средневековой церковной догмы и человеческой воли и поведения от средневековой аскетической морали».
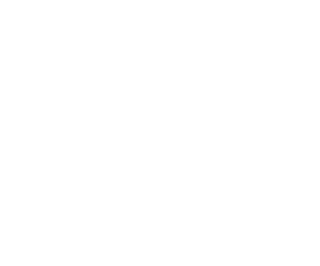
Фауст
Мой полон ум мечтой о колдовстве.
Постылы мне обманы философий;
....................
Лишь магия одна меня пленяет!
Постылы мне обманы философий;
....................
Лишь магия одна меня пленяет!
Критика Фаустом Библии представлялась ошибочной не только магистру Кембриджского университета, каким был Марло, но и любому посетителю общедоступного театра. Фауст сопоставляет два текста Нового завета и приходит к выводу, что, по Библии, человек по необходимости грешит, а затем бог наказывает его за это смертью. Однако всем были известны христианские идеи искупления грехов и благодати. Ошибочная критика «знания» и ошибочная критика Библии подводят Фауста к еще большей ошибке — вере в черную магию. В трагедии последовательно изображается ошибочность этой веры; выясняется, что дьявол является Фаусту не благодаря магической силе заклинаний, а по собственной воле, привлеченный богохульствами; власть над миром, которой добивался Фауст, оказывается иллюзорной: все чудеса Фауста в трагедии изображены именно как обман чувств, как наваждение.
Фауст и Жан Кальвин
Фауст иллюстрирует наихудший сценарий доктрины предопределения. Первоначально он решает заняться магией, убедив себя, что обречен на проклятие. Выбрав грех, он гарантирует, что его предсказание сбудется: окончательное самоисполняющееся пророчество. В пьесе поднимаются проблемы, присущие кальвинистской теории предопределения. Единственное взаимодействие Фауста с Богом исходит от Доброго Ангела, который предупреждает его о гневе Господнем. Грешник лишен надежды на спасение через покаяние, что воплощает критику Марлокальвинистской доктрины. Сама пьеса заканчивается ссылкой на библейскую цитату, которая часто используется в спорах о роли добрых дел в спасении: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».
Жан Кальвин – деятель Реформации и основатель кальвинизма. Он рассматривает первородный грех как сознательный отказ человека от подчинения Создателю, в корне извративший его богоподобную природу. В результате сам человек не способен познать ни себя, ни Бога, равно как и найти путь к спасению. Для этого необходимы дары сверхъестественные, которые вызывают чувство полного подчинения и беспредельной благодарности Творцу. Наибольшую известность приобрела доктрина Кальвина об абсолютном божественном предопределении, согласно которому окончательная судьба человека известна только Богу.
Разуверившись в идеях медицины, доктор Фауст начинает размышлять о богословии как о единственно верной и лучшей науке. Но и здесь его поджидает неудача. Раздумывая о том, что «возмездие за грех есть смерть» и отрицание греховных поступков есть ложь, он восклицает:
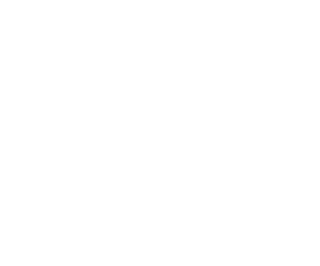
Фауст
Коль говорим, что нет на нас греха
Мы лжём себе, и истины в нас нет.
Зачем же нам грешить, а после гибнуть?
Да, гибелью должны мы гибнуть вечной!
Ученье хоть куда! Che sera, sera!
Что быть должно, то будет! Прочь, писанье!
Мы лжём себе, и истины в нас нет.
Зачем же нам грешить, а после гибнуть?
Да, гибелью должны мы гибнуть вечной!
Ученье хоть куда! Che sera, sera!
Что быть должно, то будет! Прочь, писанье!
Фауст приходит к крамольному выводу: по-настоящему божественными являются лишь оккультные науки. Тайные колдовские знания будут способствовать тому, что он станет всемогущим. Получив доступ к неограниченным знаниям, Фауст наслаждается этим состоянием, однако иногда помышляет о покаянии. В финальной сцене пьесы он терзается мыслями о предстоящей расплате за содеянное, сетует на то, что «потерял вечное блаженство» и просит студентов молиться за его душу. М. Морозов отмечает, что гибель Фауста — это трагедия буржуазного гуманизма. Он говорит о том, что изолированная, одинокая человеческая личность чувствует беспомощность и бессилие; а на свободу личности и знаний вновь накладываются «цепи» новых капиталистических отношений и новой «морали». Гуманистический призыв есть и в словах Мефистофеля:
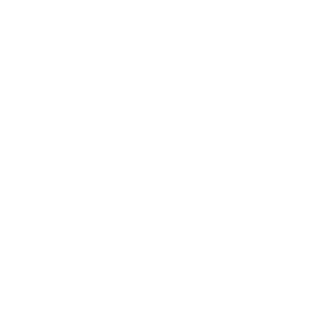
Мефистофель
Ну, полно, Фауст. Иль ты вправду веришь,
Что небеса — такая прелесть, что ли?
Прекрасней их ты вдвое сам, как всякий,
Здесь на земле живущий человек.
Что небеса — такая прелесть, что ли?
Прекрасней их ты вдвое сам, как всякий,
Здесь на земле живущий человек.
На протяжении пьесы настрой Фауста непоследователен: уже после заключения сделки с Мефистофелем он, сподвигаемый Добрым Ангелом, подумывает о покаянии, но моменты сомнения недолги. Уже ближе к окончанию срока сделки он вновь ее обновляет, чтобы заполучить Елену Прекрасную.
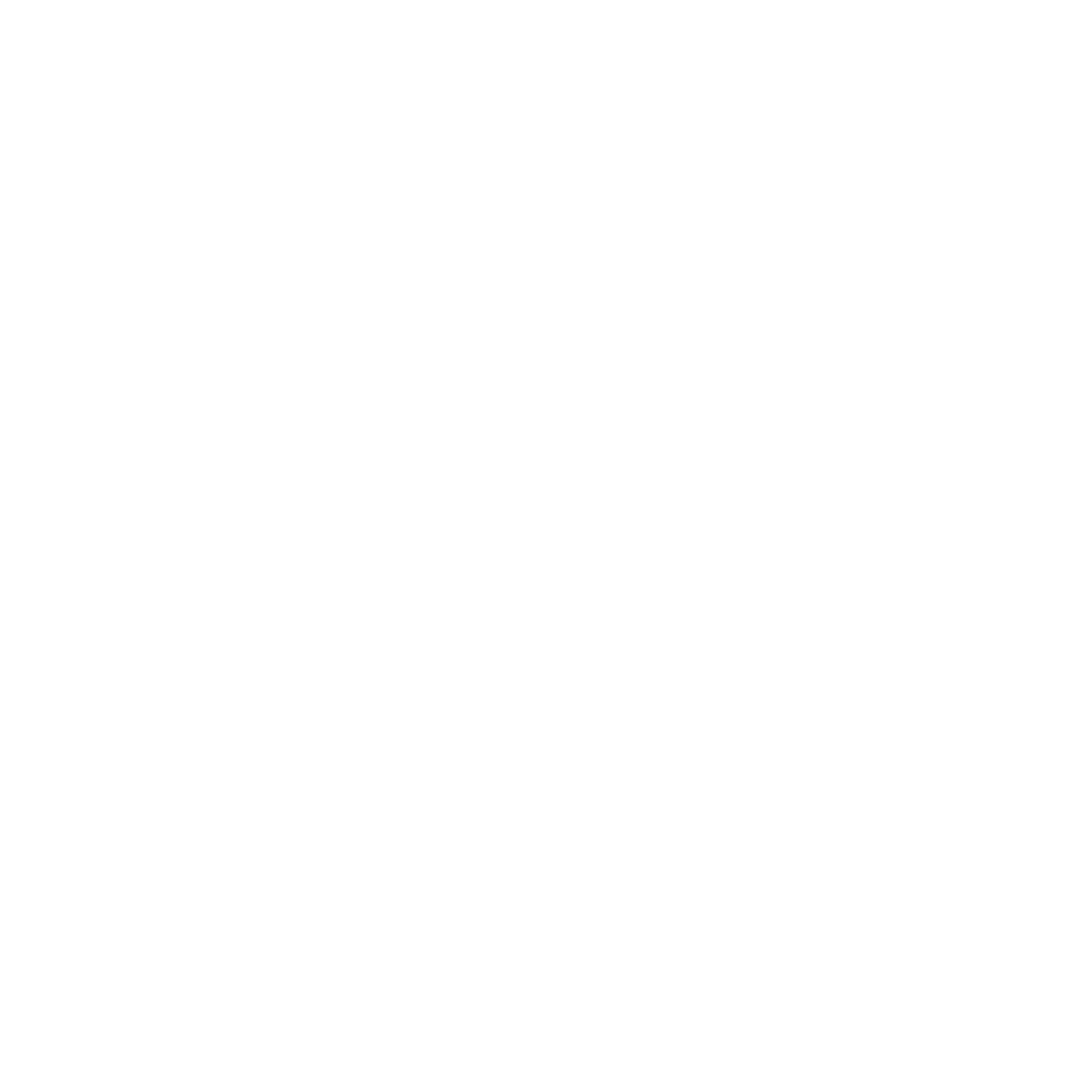
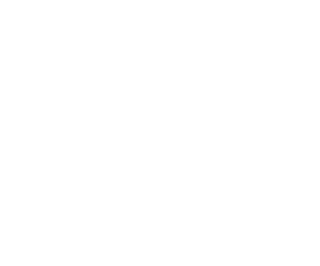
Фауст
Кто в уши мне жужжит здесь, будто дух я?
Будь я хоть бес, меня простил бы бог!
Да, бог меня простит, когда покаюсь!
Будь я хоть бес, меня простил бы бог!
Да, бог меня простит, когда покаюсь!
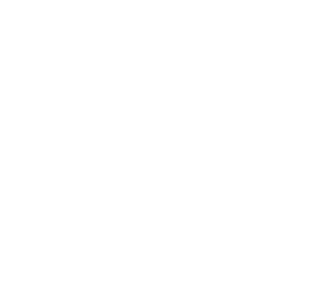
Ангел Зла
Но каяться вовек не станет Фауст!
Реплика ангела — еще один аргумент в пользу критики предопределения; всё выглядит так, будто судьба Фауста заранее предрешена. В финале Люцифер забирает его душу, несмотря на то, что за него молятся студенты. Марло был первым среди гуманистов, кто увидел в преступлении Фауста трагическое содержание. Заключительные слова Хора в трагедии содержат не только наставление, но и глубокое сочувствие.
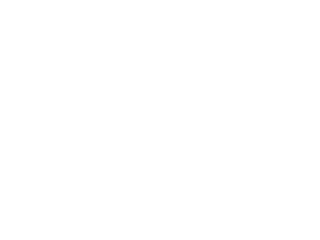
Хор
Обломана жестоко эта ветвь.
Которая расти могла б так пышно.
Сожжен побег лавровый Аполлона,
Что некогда в сем муже мудром цвел.
Нет Фауста. Его конец ужасный
Пускай вас всех заставит убедиться,
Как смелый ум бывает побежден,
Когда небес преступит он закон.
Которая расти могла б так пышно.
Сожжен побег лавровый Аполлона,
Что некогда в сем муже мудром цвел.
Нет Фауста. Его конец ужасный
Пускай вас всех заставит убедиться,
Как смелый ум бывает побежден,
Когда небес преступит он закон.
Фауст vs Фауст
«Фауст» Гете
драматическая поэма, которая состоит из различных частей, включающих в себя лирические отступления, драматические сцены и рассуждения.
«Доктор Фауст» Марло
трагедийная пьеса, где основное место занимают диалоги и сцены
В обоих произведениях главными персонажами являются Фауст и Мефистофель. У Гете Фауст изображается как сложный и многомерный персонаж, который стремится к вечной истине. Марло делает Фауста амбициозным человеком, стремящимся к гениальности.
Оба произведения затрагивают важные философские вопросы. «Фауст» исследует темы человеческого познания, смысла жизни, греха и искупления, свободы воли и духовного развития. «Доктор Фауст» поднимает вопросы морали и выбора между земными удовольствиями и вечной жизнью.
Оба произведения затрагивают важные философские вопросы. «Фауст» исследует темы человеческого познания, смысла жизни, греха и искупления, свободы воли и духовного развития. «Доктор Фауст» поднимает вопросы морали и выбора между земными удовольствиями и вечной жизнью.
Важное место в пьесе Марло занимают повторы, которые подчеркивают, как далек Фауст от обретения истины, что в действительности он застрял в ловушке Мефистофеля. В финале иллюстрируется разница между человеческим временем и вечностью, более Фаусту не доступной. Он не заметил, что договор с Мефистофелем сделал его узником времени: назвав продолжительность своей власти над Мефистофелем срок в 24 года, подчинил времени само свое существование. В начале кажется, что времени много, но годы быстро тают, и Фаусту остается только осознать, что это всего лишь мгновение по сравнению с вечностью.
Важное место в «Фаусте» занимает образ Древней Греции. Греция символизирует классическую культуру, философию и идеалы, которыми Фауст так восхищается и которые он стремится познать. Образы греческих богов отражают стремление к гармонии между человеком и природой, между знанием и эмоциональным опытом. Из античных героев в «Докторе Фаусте» присутствует Елена Троянская, ради которой Фауст обновляет сделку.
Трудности перевода
«Трагическая история доктора Фауста» — наиболее известное драматическое произведение Кристофера Марло в России. В связи с публикацией многочисленных литературоведческих исследований, затрагивавших «Трагическую историю доктора Фауста», нередкими были прозаические подстрочные переводы отдельных фрагментов текстов, выполнявшиеся публицистами, литературными критиками и литературоведами. Первые фрагменты из трагедии Марло на русском языке напечатал в 1858 г. Е. М.Феоктистов в своем компилятивном очерке «Статьи Вильмена в Journal des Savants о предшественниках Шекспира», однако и этот, и ему подобные переводы, выполнявшие исключительно функции подстрочников, не имевшие художественной ценности, вряд ли заслуживают внимания. Чем же обусловлены трудности перевода пьесы?
- сложность стилевой и композиционной структуры
- сочетание проблемных, патетических сцен с написанной в прозе клоунадой и бытовыми эпизодами
- грубые простонародные шутки и торжественные, величавые реплики хора, вызывавшие ассоциации с античной трагедией
Здесь будет разбор переводов Е. Н. Бируковой и Н. Н. Амосовой, но также популярен перевод К. Д. Бальмонта, опубликованный в 1895 году. Несмотря на поэтичность, перевод Бальмонта содержит значительные отклонения от оригинального текста.
Перевод Е. Н.Бируковой
Перевод Е. Н. Бируковой «Трагической истории доктора Фауста» появился в послевоенные годы. Ее работа была представлена в Государственном издательстве художественной литературы, затем перевод был отдан на рецензию Г. А. Шенгели.
В своей рецензии от 18 июля 1948 г. Г. А. Шенгели отмечал, что «перевод весьма точен, свободен и естественен в отношении языка, сделан уверенным и четким стихом», «его можно и нужно печатать», но при этом он «далеко не свободен от мелких шероховатостей и промахов, в иных случаях спорно истолкование трудного места текста», в связи с чем «до сдачи в печать перевод должен пройти зоркую и требовательную редактуру».
Редактирование перевода Е. Н. Бируковой с учетом замечаний Г. А. Шенгели осуществлялось Т. А. Кудрявцевой, в ту пору только начинавшей свою литературную деятельность, а впоследствии ставшей известной переводчицей западноевропейской и американской прозы. Перевод увидел свет отдельным изданием в 1949 г. с указанием редакторского участия Т. А. Кудрявцевой, после чего (уже без упоминания о редакторе) перепечатывался в 1959 и 1961 с некоторыми корректировками.
В своей рецензии от 18 июля 1948 г. Г. А. Шенгели отмечал, что «перевод весьма точен, свободен и естественен в отношении языка, сделан уверенным и четким стихом», «его можно и нужно печатать», но при этом он «далеко не свободен от мелких шероховатостей и промахов, в иных случаях спорно истолкование трудного места текста», в связи с чем «до сдачи в печать перевод должен пройти зоркую и требовательную редактуру».
Редактирование перевода Е. Н. Бируковой с учетом замечаний Г. А. Шенгели осуществлялось Т. А. Кудрявцевой, в ту пору только начинавшей свою литературную деятельность, а впоследствии ставшей известной переводчицей западноевропейской и американской прозы. Перевод увидел свет отдельным изданием в 1949 г. с указанием редакторского участия Т. А. Кудрявцевой, после чего (уже без упоминания о редакторе) перепечатывался в 1959 и 1961 с некоторыми корректировками.
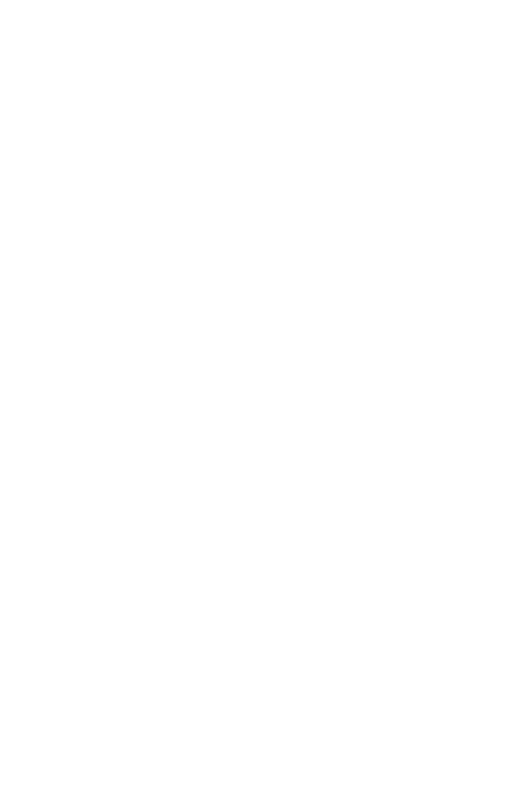
Реплики Хора представлены в начале и в конце перевода, а также в качестве прелюдий к 3-ему (визит к папе) и 4-ому (визит к императору) действиям. Пьеса разделена на 5 актов, количество сцен — 14. Далее последует разбор некоторых отрывков с комментариями.
Слова Фауста, обращенные к Елене Троянской
Sweet Hellen make me immortall with a kisse
Her lips sucke forth my soule, see where it flies.
Come Hellen, come, give me my soule againe,
Here will I dwell, for heaven is in these lippes–
Her lips sucke forth my soule, see where it flies.
Come Hellen, come, give me my soule againe,
Here will I dwell, for heaven is in these lippes–
Елена! Дай бессмертье поцелуем! (Целует ее.)
Ее уста мою исторгли душу. Она летит. Верни ее, верни,Елена! Жить хочу в устах твоих,
В них – небо!..
Ее уста мою исторгли душу. Она летит. Верни ее, верни,Елена! Жить хочу в устах твоих,
В них – небо!..
Переводчица сумела соблюсти определенный баланс – избежать использования лишних восклицаний, слов с исключительно эмоциональным компонентом, но при этом и не дойти до сухой констатации фактов.
Философские размышления об аде
Within the bowels of these Elements
Where we are tortur'd, and remaine forever.
Hell hath no limits, nor is circumscrib'd,
In one selfe place: but where we are is hell,
And where hell is there must we ever be.
And to be short, when all the world dissolves,
And every creature shall be purifi'd,
All places shall be hell that is not heaven.
Where we are tortur'd, and remaine forever.
Hell hath no limits, nor is circumscrib'd,
In one selfe place: but where we are is hell,
And where hell is there must we ever be.
And to be short, when all the world dissolves,
And every creature shall be purifi'd,
All places shall be hell that is not heaven.
Он, Фауст, в недрах тех стихий вселенских,
Где вечно мы в терзаньях пребываем.
Единым местом ад не ограничен,
Пределов нет ему; где мы, там ад;
И там, где ад, должны мы вечно быть,
А потому, когда весь мир погибнет
И каждое очистится творенье,
Все, кроме неба, превратится в ад.
Где вечно мы в терзаньях пребываем.
Единым местом ад не ограничен,
Пределов нет ему; где мы, там ад;
И там, где ад, должны мы вечно быть,
А потому, когда весь мир погибнет
И каждое очистится творенье,
Все, кроме неба, превратится в ад.
В данном случае 'dissolve' – разрушаться, подвергаться распаду и в конечном итоге исчезать, прекращать существование; автор использует вариант «погибнет» (модуляция), т.е. значение лексической единицы в ПЯ логически выводится из значения исходной единицы. Использование этой трансформации мы можем объяснить попыткой автора сделать перевод лексически корректным, но в то же время не громоздким из-за большого количества описательных оборотов.
Сложность воссоздания философских рассуждений об аде состояла в том, что их, с одной стороны, нельзя было передать буквально, т.к. это приводило к потере специфического колорита и внутреннего контекста монолога. Также текст перевода нельзя было усложнять лексически и грамматически, поскольку это приводит к трудностям в понимании вполне прозрачной авторской логики. Перевод Бируковой оказался достаточно выверенным в плане корректности использования лексических и грамматических форм.
Сложность воссоздания философских рассуждений об аде состояла в том, что их, с одной стороны, нельзя было передать буквально, т.к. это приводило к потере специфического колорита и внутреннего контекста монолога. Также текст перевода нельзя было усложнять лексически и грамматически, поскольку это приводит к трудностям в понимании вполне прозрачной авторской логики. Перевод Бируковой оказался достаточно выверенным в плане корректности использования лексических и грамматических форм.
Смерть Кристофера Марло — одна из самых непреходящих загадок в истории литературы. Он погиб в возрасте 29 лет в пьяной драке в таверне. Есть теория, что это было преднамеренное убийство с целью защитить высокопоставленного члена елизаветинского правительства, так как Марло был шпионом. Конспирологи верят, что убийство было сфальсифицировано, чтобы Марло мог скрыться от врагов и начать жизнь под новым именем — Уильям Шекспир.
Описание грехов Фауста
Break heart, drop blood, and mingle it with tears,
Tears falling from repentant heaviness
Of thy most vilde and loathsome filthiness
The stench whereof corrupts the inward soul
With such flagitious crimes of heinous sin
As no commiseration may expel,
But mercy, Faustus, of thy Saviour sweet,
Whose blood alone must wash away thy guilt.
Tears falling from repentant heaviness
Of thy most vilde and loathsome filthiness
The stench whereof corrupts the inward soul
With such flagitious crimes of heinous sin
As no commiseration may expel,
But mercy, Faustus, of thy Saviour sweet,
Whose blood alone must wash away thy guilt.
Свое разбей ты сердце, кровь пролей,
Смешай ее с горючими слезами
Раскаянья и скорби о пороках,
Которых смрад наполнил дух заразой,
Таких злодейств и несказанных скверн,
Что никакое в мире милосердье
Их не изгонит, лишь любовь Христа, —
Твой тяжкий грех своей он смоет кровью.
Смешай ее с горючими слезами
Раскаянья и скорби о пороках,
Которых смрад наполнил дух заразой,
Таких злодейств и несказанных скверн,
Что никакое в мире милосердье
Их не изгонит, лишь любовь Христа, —
Твой тяжкий грех своей он смоет кровью.
Речь Старика из первой сцены пятого действия изобилует эпитетами, описывающими грехи и преступления Фауста (most vilde, loathsome, flagitious, heinous), однако Бирукова не сохраняет эпитеты содержательно близкие оригинальным, а полностью грамматически перестраивает предложения. Обращает на себя внимание только эпитет «несказанный».
Представление семи смертных грехов (Зависть)
I am Envy, begotten of a chimney-sweeper and an oyster-wife. I cannot read, and therefore wish all books were burnt. I am lean with seeing others eat. O, that there would come a famine through all the world, that all might die, and I live alone! then thou shouldst see how fat I would be. But must thou sit, and I stand? come down, with a vengeance!
Я – Зависть. Отец мой трубочист, а мать торговка устрицами. Я не умею читать и потому хотела бы, чтоб сожгли все книги на свете! Я худею, когда вижу, как другие едят. О, если бы на весь мир напал голод и уморил всех людей, а я одна осталась бы в живых! Вот тогда бы я разжирела! Но почему ты сидишь, а я должна стоять? Проклятье на твою голову!
Этот прозаический фрагмент Бирукова попыталась передать также прозой. Завершающее ругательство, с которым Зависть обращается к Фаусту из-за того, что он сидит, тогда как она стоит, передано при помощи грамматической и лексической трансформаций предложений. Фраза 'with a vengeance' представляет собой устойчивое выражение и имеет значение «вовсю, с лихвой, чертовски».
Критика
Е. Н. Бирукова прибегает к архаизации лексики, что в некоторых случаях приводит к поэтическому искажению оригинального текста. На избыточное использование архаизмов как главный недостаток перевода Бируковой указывал в своей рецензии Г. А. Шенгели, называя среди избыточных архаизмы: «злато», «зрит», «превыше», «свершат»; в английском тексте – «gold / golden» («золото / золотой»), «shall see perform'd / shall behold» («увидите в действии / увидите»), «before» («прежде»), «do / to execute» («делать / исполнить»). Вместе с тем предпринята попытка сохранить параллелизм синтаксических конструкций, представленных сложным дополнением в оригинальном тексте. Переводчику удалось это сделать, перестроив предложения на русском языке с помощью императива.
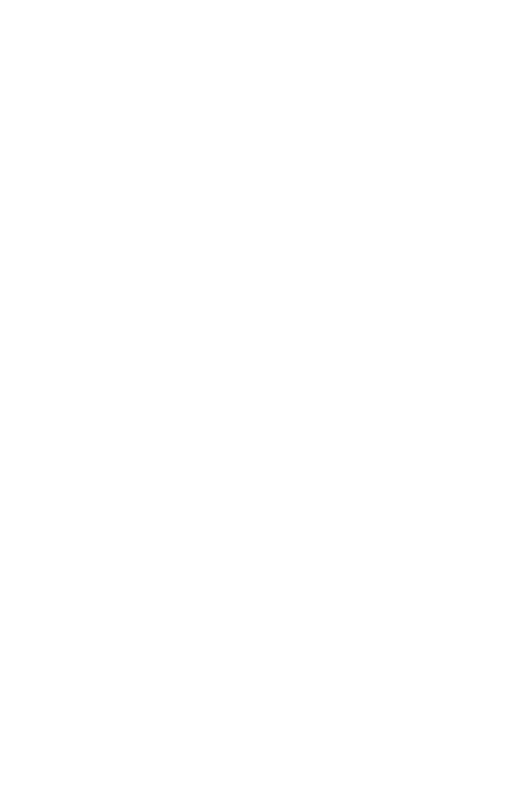
Г.А. Шенгели
Читать еще
Краткое содержание второго эпизода из курса Марины Давыдовой «Театр английского Возрождения»
Перевод Н. Н. Амосовой
Как ив большинстве пьес, в трагедии Марло основной архитектурно-речевой формой является диалог, реже встречаются монологи и полилоги. Композиционно-речевая форма — преимущественно рассуждение и повествование, с намного меньшей частотой присутствует описание. Тональность текста высокая, однако в некоторых местах присутствуют снижения лексики, которые при переводе претерпели трансформацию наравне с устаревшими грамматическими формами и лексическими единицами.
I have gotten one of Doctor Faustus' conjuring-books; and now we'll have such knavery as't passes.
Ох, вот так славно! Я стащил одну из колдовских книг доктора Фауста. Ей-богу, отыщу-ка я в ней какие-нибудь магические фигуры!
Knavery встречается в словаре с пометой «old fashioned», обозначает 'жульничество'. Однако, Н. Н. Амосова переводит это слово как 'магический', тем самым используя лексико-семантическую переводческую трансформацию – замену. Данный перевод кажется нам не вполне точным, поскольку вышеупомянутое слово по сравнению с оригиналом повышает тональность текста, что, в свою очередь, умаляет авторскую стилистическую окраску.
Однако остальной текст в реплике героя переводчик стилизует на русском языке так, чтобы он органично вписывался в контекст речевой ситуации ПЯ. Поэтому нейтральное «have gotten» звучит уже как 'стащил' и адаптируется таким образом под персонажа – конюха постоялого двора.
В этой же сцене присутствуют некоторые разночтения. Н. Н. Амосова объясняет это тем, что в тексте А и Б эта сцена находится в разных местах пьесы.
Однако остальной текст в реплике героя переводчик стилизует на русском языке так, чтобы он органично вписывался в контекст речевой ситуации ПЯ. Поэтому нейтральное «have gotten» звучит уже как 'стащил' и адаптируется таким образом под персонажа – конюха постоялого двора.
В этой же сцене присутствуют некоторые разночтения. Н. Н. Амосова объясняет это тем, что в тексте А и Б эта сцена находится в разных местах пьесы.
Когда Фауст просит у Мефистофеля жену, а тот приводит демоницу, ученый говорит: "Here's a hot whore, indeed: no, I'll no wife", что в переводе: "Чума ее возьми! Ведь это девка!" Кембриджский словарь дает слово "whore" с пометой "informal, vulgar, pejorative".
Устаревшие грамматические формы и сокращения
Ay, that is not against our kingdom; this is. Thou art damned; think thou of hell.
Да, но лишь то, что не враждебно аду. А твой вопрос враждебен. Ты подумай об аде, Фауст, ибо ты ведь проклят!
В этой реплике Мефистофеля 'Ay' означает современное 'yes'.
Примечательно, что Амосова использует здесь сразу несколько переводческих трансформаций. Во-первых, добавление ('ибо ты ведь проклят'), а во-вторых, экспликацию ('our kingdom' – 'ад').
Примечательно, что Амосова использует здесь сразу несколько переводческих трансформаций. Во-первых, добавление ('ибо ты ведь проклят'), а во-вторых, экспликацию ('our kingdom' – 'ад').
Here, take your guilders again; I'll none of 'em.
Нет, нет, берите-ка свои угольки назад!
Здtcь сокращение ''em' образовано от 'them'. Также 'guilders' (букв. гульден, денежная единица того времени) переведено как угольки, что иллюстрирует отношение шута к тогдашним деньгам и отсылает к предыдущим репликам героя ('Это что, раскаленные угольки? <…> Служить ради французских крон? Ведь человеку от них такой же прок, как от английских фишек, да и с теми-то что мне делать').
Н. Н. Амосова объясняет, что пренебрежительный отзыв шута о французских кронах объясняется тем, что в самом конце 16 столетия французские финансы находились в плачевном состоянии. Эту фразу следует признать позднейшей вставкой, сделанной не ранее 1597 года. В тексте Б эта острота опущена как устаревшая.
Н. Н. Амосова объясняет, что пренебрежительный отзыв шута о французских кронах объясняется тем, что в самом конце 16 столетия французские финансы находились в плачевном состоянии. Эту фразу следует признать позднейшей вставкой, сделанной не ранее 1597 года. В тексте Б эта острота опущена как устаревшая.
Шут шутки шутит
"Sirrah, wilt thou be my man, and wait on me, and I will make thee go like Qui mihi discipulus?"
"What, in verse?"
"No, slave; in beaten silk and staves-acre."
"Staves-acre! that's good to kill vermin: then, belike, if I serve you, I shall be lousy."
"What, in verse?"
"No, slave; in beaten silk and staves-acre."
"Staves-acre! that's good to kill vermin: then, belike, if I serve you, I shall be lousy."
"А хочешь служить у меня? Будешь щеголять как qui mihi discipulus (Тот, кто мне ученик (лат.))!"
"Это как же, в стихах?"
"Да нет, весь в шелку и во вшивом корне!"
"Как это, на Мошенничьем Поле? Так это-то поместье оставил тебе отец? Понимаешь, мне жалко было бы лишать тебя последних средств пропитания!"
"Да я говорю «во вшивом корне»!"
"Ого, ого, во вшивом корне! Видно, будь я твоим слугой, я был бы весь обсыпан вшами!"
"Это как же, в стихах?"
"Да нет, весь в шелку и во вшивом корне!"
"Как это, на Мошенничьем Поле? Так это-то поместье оставил тебе отец? Понимаешь, мне жалко было бы лишать тебя последних средств пропитания!"
"Да я говорю «во вшивом корне»!"
"Ого, ого, во вшивом корне! Видно, будь я твоим слугой, я был бы весь обсыпан вшами!"
В подлиннике, как отмечает Н. Н. Амосова, здесь непереводимая игра слов: Вагнер говорит о вшивом корне или дельфиниуме (staves-acre), употреблявшемся в качестве средства против паразитов. Шут, делая вид, что не дослышал, употребляет слова Knave's acre – название узкой и грязной лондонской улицы, населенной «маленькими людьми» (ныне Poultney-street). Название буквально означает «Подлецово поле» и «Мошенничье поле». В тексте Б, как и в рассматриваемом исходнике, эта игра слов опущена.
Марло был первым, кто освободил елизаветинскую драму от жестких традиций и доказал, что белый стих может быть эффективным и выразительным средством. После благодаря нему белый стих стал стандартом эпохи.
Вельзевул в отпуске
BELZEBUB. We are come to tell thee thou dost injure us.
LUCIFER. Thou call'st of Christ, contrary to thy promise.
BELZEBUB. Thou shouldst not think on God.
LUCIFER. Think of the devil.
BELZEBUB. And his dame too.
LUCIFER. Thou call'st of Christ, contrary to thy promise.
BELZEBUB. Thou shouldst not think on God.
LUCIFER. Think of the devil.
BELZEBUB. And his dame too.
Люцифер. Явились мы, дабы сказать тебе,
Что оскорбил ты нас сейчас, нарушив
Наш договор, болтая о Христе.
О боге не мечтай - мечтай о черте -
И бабушке его.
Что оскорбил ты нас сейчас, нарушив
Наш договор, болтая о Христе.
О боге не мечтай - мечтай о черте -
И бабушке его.
К этому отрывку дан переводческий комментарий, однако он не объясняет отсутствия реплик Вельзевула, а указывает на расхождение текста с подлинником. Так, 'мечтай о черте – и бабушке его' в подлиннике звучит как "thinke of the deuil, and his dame too". По мнению Амосовой Н. Н. – это неуместное добавление, которое, вероятнее всего, является актерской вставкой. В дальнейшем реплики Вельзевула вновь сливаются с Люцифером. В 10 сцене у Амосовой присутствуют три действующих лица – Фауст, Император и Рыцарь. В исходном тексте героев больше, в полилоге, помимо уже названных лиц, присутствуют Фредерик, Мартино, Бенволио. В переводе их реплики сведены в единую квинтэссенцию в речи Рыцаря, в которой, соответственно, передано не всё:
BELZEBUB. We are come to tell thee thou dost injure us.
LUCIFER. Thou call'st of Christ, contrary to thy promise.
BELZEBUB. Thou shouldst not think on God.
LUCIFER. Think of the devil.
BELZEBUB. And his dame too.
LUCIFER. Thou call'st of Christ, contrary to thy promise.
BELZEBUB. Thou shouldst not think on God.
LUCIFER. Think of the devil.
BELZEBUB. And his dame too.
Люцифер. Явились мы, дабы сказать тебе,
Что оскорбил ты нас сейчас, нарушив
Наш договор, болтая о Христе.
О боге не мечтай - мечтай о черте -
И бабушке его.
Что оскорбил ты нас сейчас, нарушив
Наш договор, болтая о Христе.
О боге не мечтай - мечтай о черте -
И бабушке его.
BENVOLIO. Blood, he speaks terribly! but, for all that, I do not greatly believe him: he looks as like a conjurer as the Pope to a costermonger. [Aside.]
Рыцарь (в сторону). Право, он очень похож на фокусника.
Другие переводческие трансформации
- КонкретизацияThis study fits a mercenary drudge <…>
Достойно это слуг и торгашей <…>
Здесь 'наемный труд' – 'mercenary drudge' конкретизируется до 'слуг и торгашей'.
The Hebrew Psalter, and New Testament <…>
Евангелье и с ним Псалтырь еврейский <…>
'New Testament' Амосова Н. Н. переводит как 'Евангелье', хотя это не одно и то же. Новый Завет содержит в себе описание прихода Мессии и будущего человечества. Евангелие – это основная структурная единица Нового Завета, непосредственно рассказывающая о жизненном пути спасителя человечества – Иисуса Христа. - Генерализация<…> emperors and kings
Are but obeyed in their several provinces; <…>
Государям подвластны лишь владенья их.
По нашему мнению, здесь 'emperors and kings' обобщается до 'государей' с целью идиоматизации перевода и приближения его к нормам ПЯ.
Итог
Можно сделать вывод о высоком качестве перевода Амосовой Н. Н. Для перевода она использовала две основные редакции оригинального текста пьесы, что позволило более точно и близко передать смысл и атмосферу оригинала.
В переводе присутствуют некоторые отклонения от исходного текста, например, перемена мест отдельных сцен или добавление строк. Также в переводе имеются некоторые неточности и различия в трактовке, которые вызваны компилятивным характером исходного текста.
Несмотря на сложности и неточности, перевод Амосовой достаточно точен и близок к оригиналу, что делает его хорошим выбором для тех, кто хочет ознакомиться с произведением на русском языке.
Перевод Е. Н.Бируковой мы тоже удачным. Автор сумела представить трагедию на русском языке в близком соответствии с оригиналом и ей удалось передать мысли и эмоции английского текста, не исказив идею К. Марло множеством дополнительных деталей. Безусловно, на некоторые жертвы все же пришлось пойти — из-за типологических особенностей английского и русского языков переводчица использовала лексические и грамматические трансформаций для более точной передачи замысла произведения.
Сравнивая переводы Н. Н. Амосовой и Е. Н. Бируковой мы заметили, что первая постаралась адаптировать пьесу под современного читателя: это касается как грамматических конструкций, так и многочисленных комментариев к реалиям древних времен. Вторая переводчица же приложила усилия для более точной передачи синтаксиса и устаревшей лексики. По нашему мнению ей это удалось, однако мы согласны с критиками насчет чрезмерного использования архаизмов.
В переводе присутствуют некоторые отклонения от исходного текста, например, перемена мест отдельных сцен или добавление строк. Также в переводе имеются некоторые неточности и различия в трактовке, которые вызваны компилятивным характером исходного текста.
Несмотря на сложности и неточности, перевод Амосовой достаточно точен и близок к оригиналу, что делает его хорошим выбором для тех, кто хочет ознакомиться с произведением на русском языке.
Перевод Е. Н.Бируковой мы тоже удачным. Автор сумела представить трагедию на русском языке в близком соответствии с оригиналом и ей удалось передать мысли и эмоции английского текста, не исказив идею К. Марло множеством дополнительных деталей. Безусловно, на некоторые жертвы все же пришлось пойти — из-за типологических особенностей английского и русского языков переводчица использовала лексические и грамматические трансформаций для более точной передачи замысла произведения.
Сравнивая переводы Н. Н. Амосовой и Е. Н. Бируковой мы заметили, что первая постаралась адаптировать пьесу под современного читателя: это касается как грамматических конструкций, так и многочисленных комментариев к реалиям древних времен. Вторая переводчица же приложила усилия для более точной передачи синтаксиса и устаревшей лексики. По нашему мнению ей это удалось, однако мы согласны с критиками насчет чрезмерного использования архаизмов.
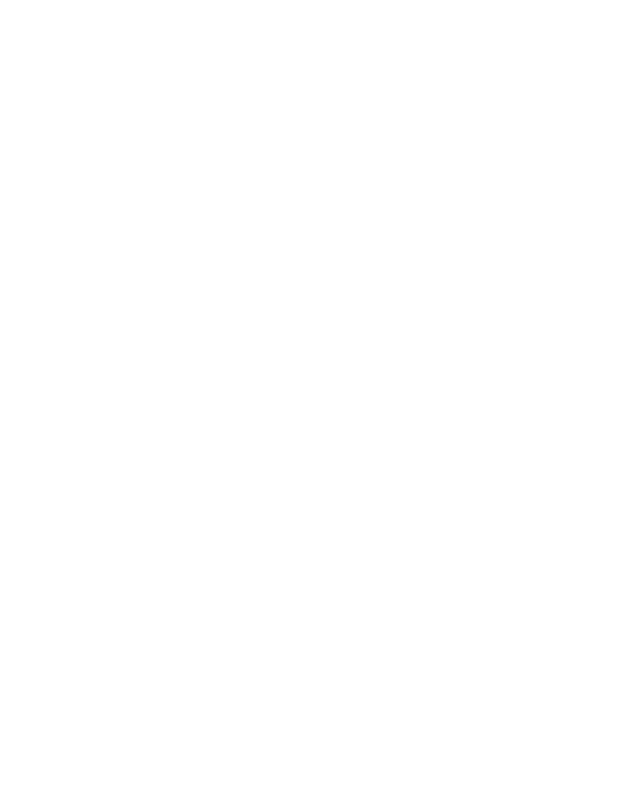
Издание в переводе Н. Н. Амосовой, подготовленное В.М. Жирмунским
Сопоставляя два сюжета мы пришли к выводу, что герои их, хоть и писаны с одного исторического прототипа, являются разными персонажами, обладающими своими уникальными чертами характера и помыслами. Сюжеты жесхожи по структуре и основным идеям, однако заканчиваются совершенно по-разному.
Оба произведения стали частью литературного и культурного наследия, оказывая влияние на последующие поколения писателей, художников и музыкантов. Их образы, темы и идеи продолжают быть актуальными и вызывать интерес исследователей и творческих деятелей по всему миру.
Постановки «Доктора Фауста» разных лет
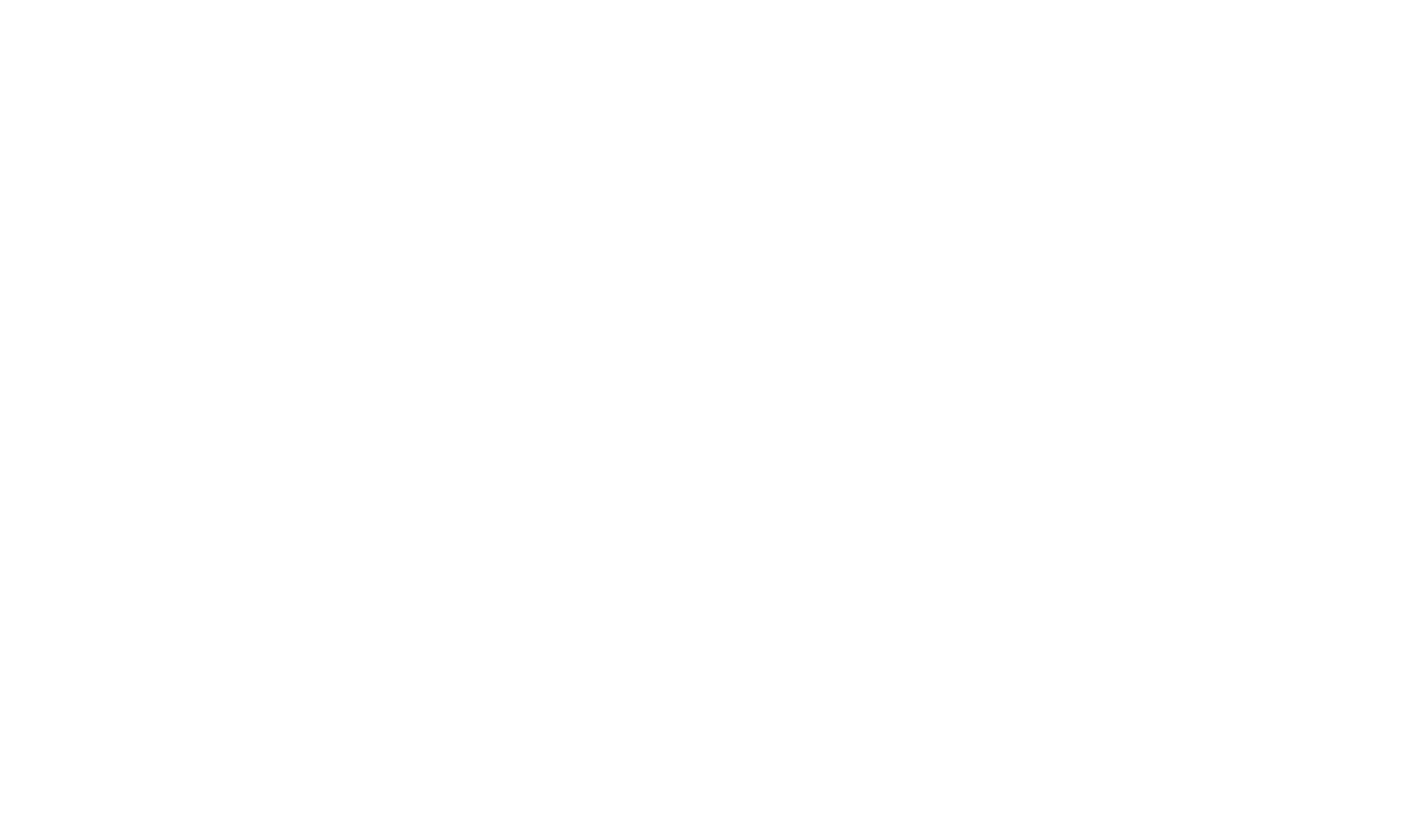
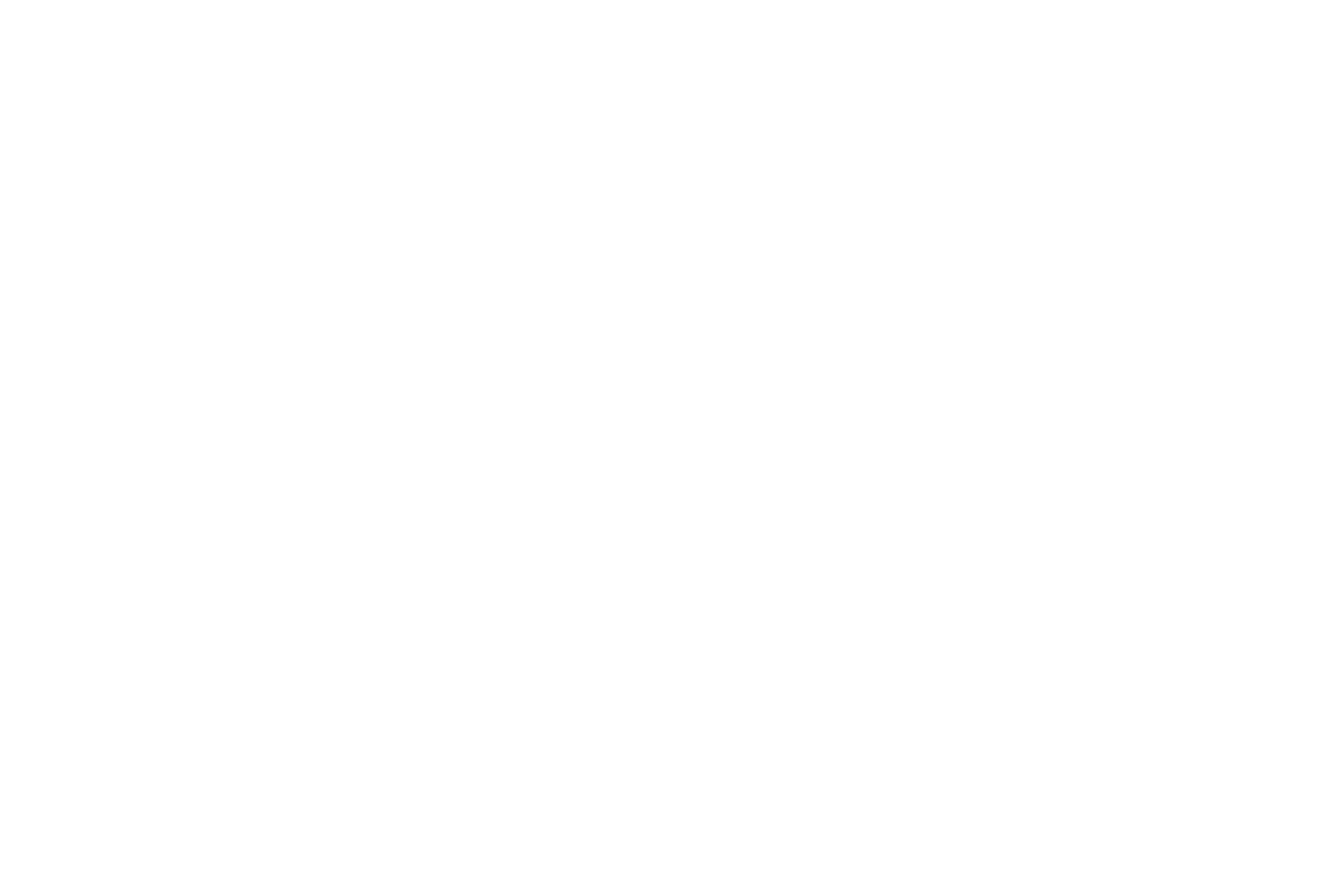
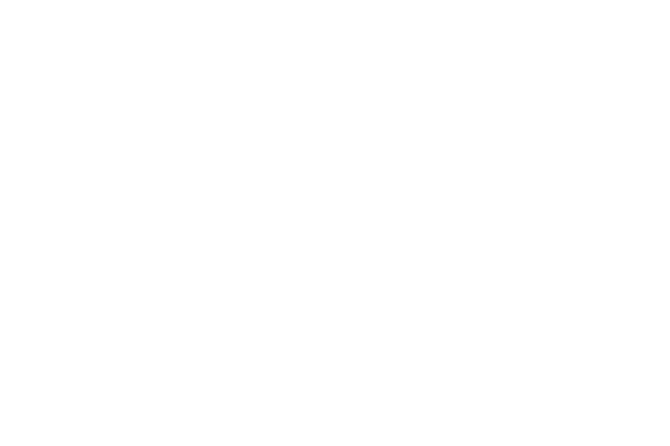
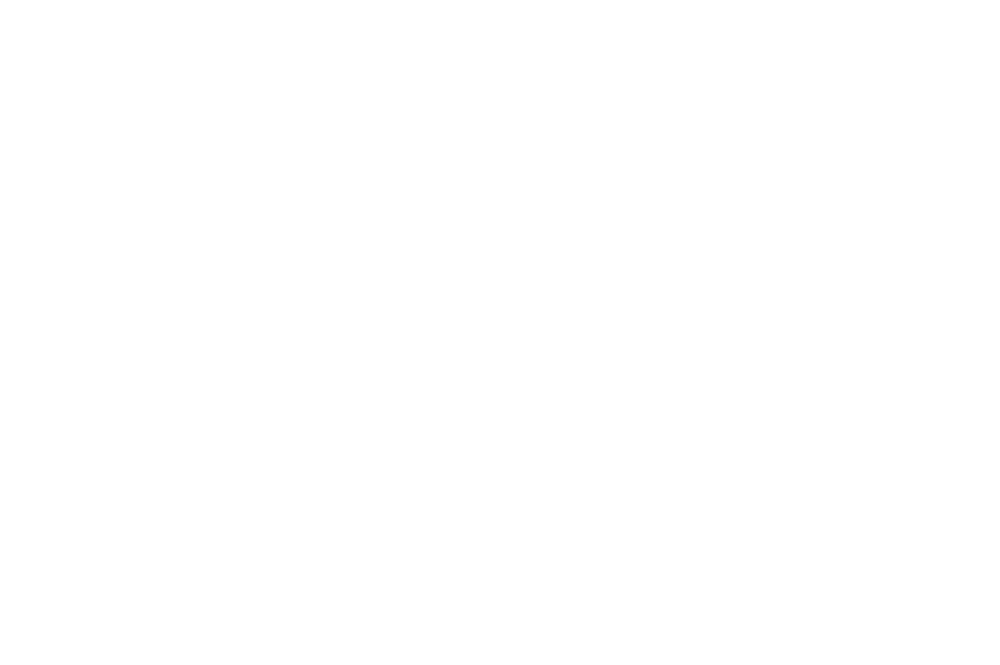
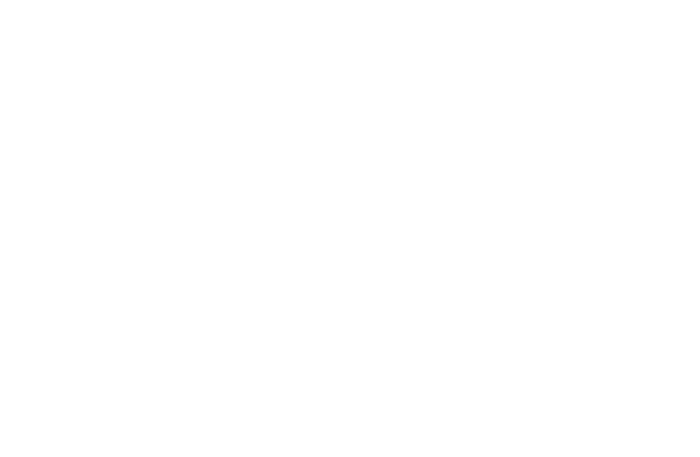

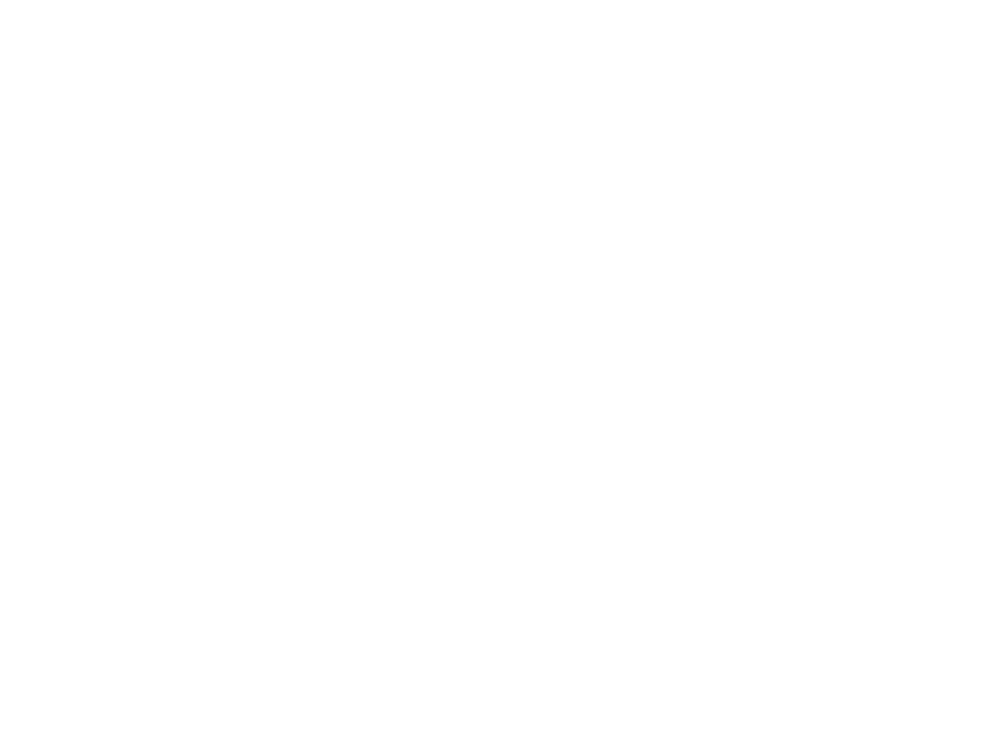
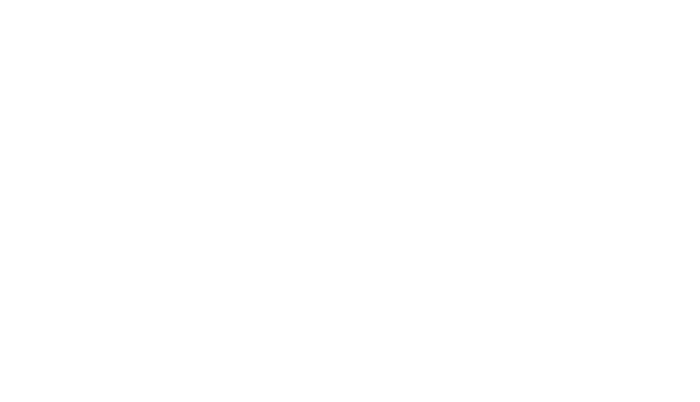
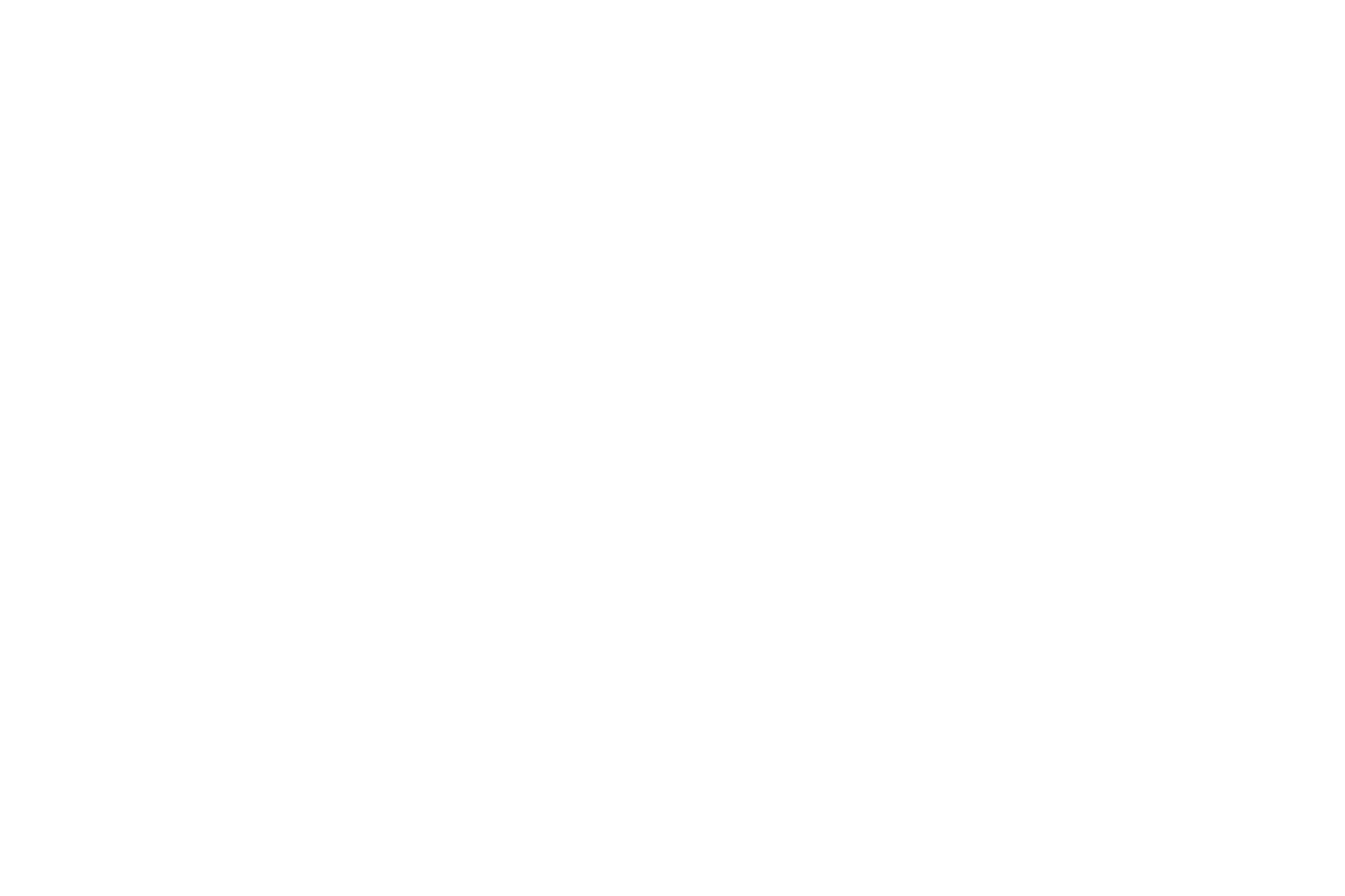
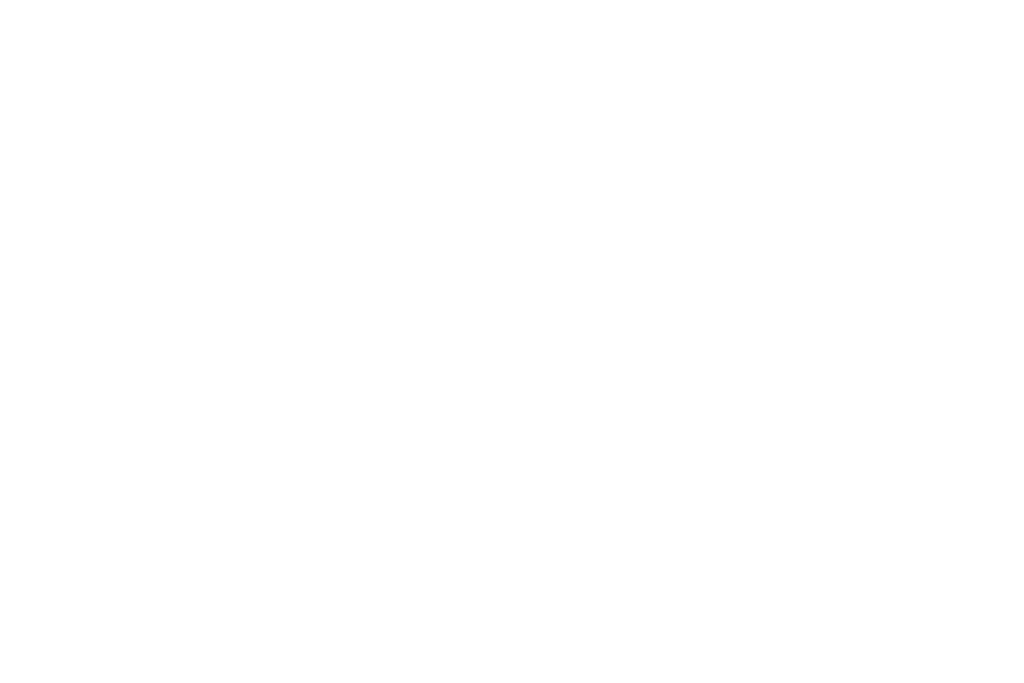
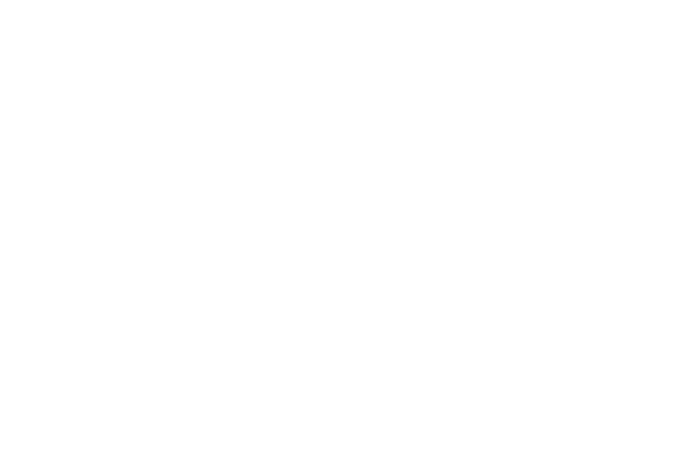
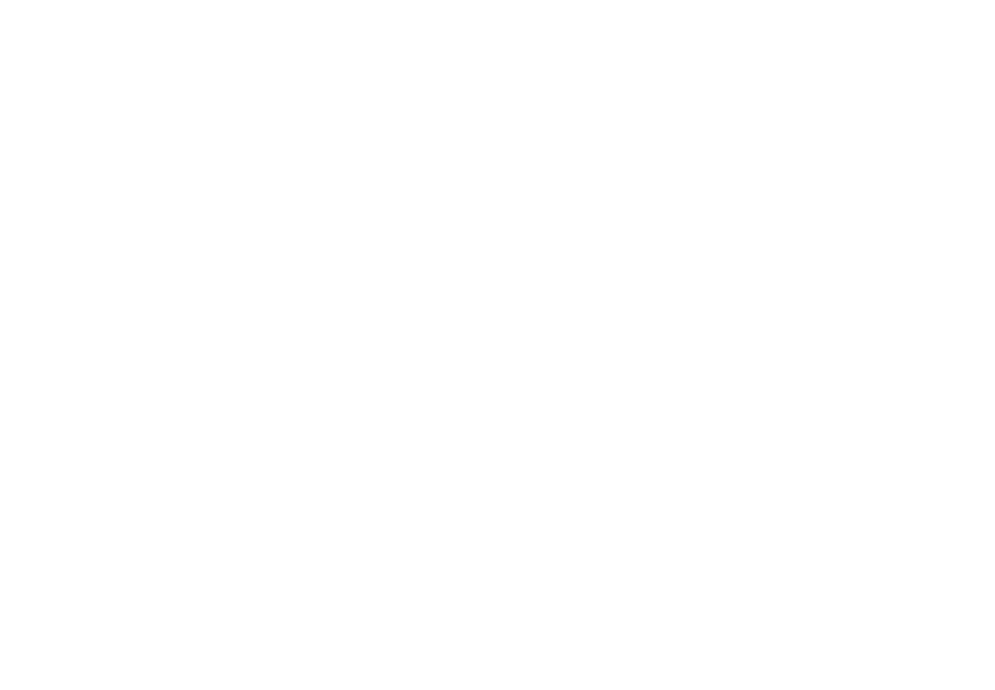
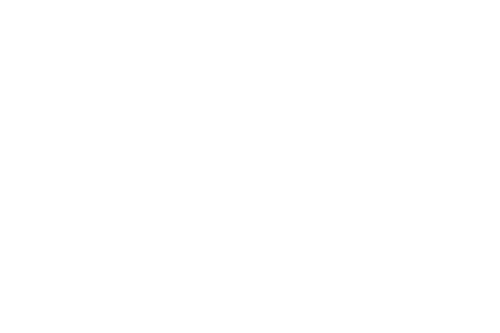
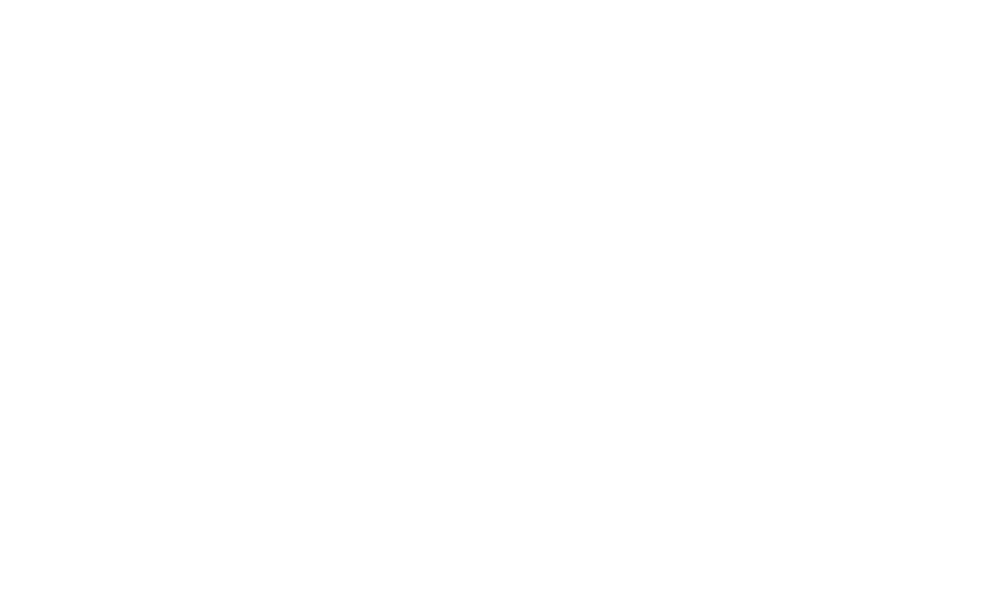
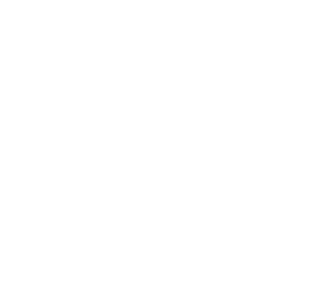
Гете о трагедии Марло
Как это грандиозно!
Список литературы
1. Барышникова Д. Фауст в литературе: трансформация образа // Труды РАШ. 2012. № 10. С. 139-148.
2. Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте. - В кн.: Легенда о докторе Фаусте. 1958, с. 438.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Корелин М. С. Западная легенда о докторе Фаусте: Опыт исторического исследования / Корелин Михаил Сергеевич // [Вестник Европы. Журнал Министерства народного просвещения]. 1882.
5. Легенда о докторе Фаусте / Изд. подгот. В.М. Жирмунский; Ред. изд-ва А.И. Соболева. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 574 с.
6. Марло К. Легенда о докторе Фаусте / Перевод Н. Н. Амосовой. М., "Наука", 1978. URL: Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста (lib.ru)
7. Морозов М. М. Избранные статьи и переводы. - М., 1954.
8. Парфенов А. Т. Легенда о Фаусте и гуманисты Северного возрождения. (Культура эпохи Возрождения и Реформация. - М., 1981. - С. 163-170)
9. Парфенов, А. Т. Кристофер Марло / А. Т. Парфенов – Режим доступа: http://www.philology.ru/literature3/parfyonov-60.htm
10. Уваров С.Ф. Марло, один из предшественников Шекспира: Очерк из истории английской драмы // Русское слово. –1859. – №3. – С. 221 – 284.
11. Феоктистов, Е.М. Статьи Вильмена в Journal des Savants о предшественниках Шекспира // Русский вестник. – 1856. – №2 (окт.). – Современная летопись. – С. 282 – 293.
12. Художественный перевод и сравнительное литературоведение. IV: сборник научных трудов / отв. ред. Д.Н. Жаткин. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2020. – 678 с.
13. Marlowe K. The Tragical History of Doctor Faustus / Edited by Alexander Dyce. URL: The Tragical History of Doctor Faustus, by Christopher Marlowe (gutenberg.org)
2. Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте. - В кн.: Легенда о докторе Фаусте. 1958, с. 438.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Корелин М. С. Западная легенда о докторе Фаусте: Опыт исторического исследования / Корелин Михаил Сергеевич // [Вестник Европы. Журнал Министерства народного просвещения]. 1882.
5. Легенда о докторе Фаусте / Изд. подгот. В.М. Жирмунский; Ред. изд-ва А.И. Соболева. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 574 с.
6. Марло К. Легенда о докторе Фаусте / Перевод Н. Н. Амосовой. М., "Наука", 1978. URL: Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста (lib.ru)
7. Морозов М. М. Избранные статьи и переводы. - М., 1954.
8. Парфенов А. Т. Легенда о Фаусте и гуманисты Северного возрождения. (Культура эпохи Возрождения и Реформация. - М., 1981. - С. 163-170)
9. Парфенов, А. Т. Кристофер Марло / А. Т. Парфенов – Режим доступа: http://www.philology.ru/literature3/parfyonov-60.htm
10. Уваров С.Ф. Марло, один из предшественников Шекспира: Очерк из истории английской драмы // Русское слово. –1859. – №3. – С. 221 – 284.
11. Феоктистов, Е.М. Статьи Вильмена в Journal des Savants о предшественниках Шекспира // Русский вестник. – 1856. – №2 (окт.). – Современная летопись. – С. 282 – 293.
12. Художественный перевод и сравнительное литературоведение. IV: сборник научных трудов / отв. ред. Д.Н. Жаткин. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2020. – 678 с.
13. Marlowe K. The Tragical History of Doctor Faustus / Edited by Alexander Dyce. URL: The Tragical History of Doctor Faustus, by Christopher Marlowe (gutenberg.org)